Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Латвия, Образование и наука, Право, Прямая речь
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 09.05.2025, 06:59
Станислав Бука: Латвийские вузы никогда не войдут в мировые рейтинги
 версия для печати
версия для печати |
|---|
– Как Вам кажется, реформа высшего образования в целом была необходима?
– Если говорить о том, что что-то нужно было срочно менять в системе образования — то, безусловно, нужно На самом деле, все предыдущие министры образования порывались что-то сделать в этой сфере, но ни у кого из них не было целостной картины ситуации.
– У Робертса Килиса она есть?
– Да, но вопрос в том, насколько эта картинка правильна. Когда-то я сказал, что государственные вузы — это последняя монополия в латвийской республике. Вроде всем понятно, что вузы должны обладать автономией, но в Латвии автономия превратилась во вседозволенность. И понятно, что никому из них не нравится того, что хочет Килис — сделать так, чтобы степень их автономии упала на порядок.
– При этом самые горячие споры идут вокруг сокращения числа вузов тоже как минимум на порядок.
– Если говорить о том, много ли в Латвии вузов, то да — их очень много. Причины во многом — в том, что высшее образование перестало быть элитным образованием, как это было в 70-80-90-е годы прошлого века. После этого в мире начали происходить технологические революции, и все изменилось — население стало считать, что путь наверх, к материальному благосостоянию лежит через систему высшего образования. Если раньше в вузы поступали 25-30% выпускников, то сейчас этот процент доходит до 85%. Причем Латвия занимает лидирующие позиции по количеству студентов на душу населения.
– Образованное население — это разве плохо?
– Это иллюзия, которую мы сами создали. Вот, к примеру, ЕС считает, что идеальная модель такова: 30% жителей должно учиться в вузах, а остальные 70% должны обеспечивать функционирование этих вузов. К сожалению, вузы стали выполнять функции доучивания выпускников школ. Если раньше поступали только лучшие и готовые к обучению молодые люди, то теперь все поступающие распределились на 3 группы. Примерно треть из них может и хочет учиться. Еще треть — как болото: вроде может учиться, если захочет, но не всегда это желание есть. И еще треть вообще не может учиться, но их толкают в вузы родители. Причина еще и в том, что образование в Латвии — дешевое даже по сравнению с соседними странами. В Эстонии, к примеру, в вузах обучение примерно на 20-30% выше, чем у нас.
– Цена ниже, потому что конкуренция из-за большого числа вузов у нас больше?
– Да, это одна из причин. Но ведь платное обучение есть не только в частных вузах, но и государственных. А, значит, вузы за последние 20 лет просто стали подстраиваться под плохих учеников. Не то, чтобы эти ученики были совершенно негодные — все-таки они смогли «доползти» до выпуска, до аттестата и даже сдать экзамены. Но далеко не те, которые были в то время, когда высшее образование было элитным.
Еще один момент, который ухудшил уровень образования — это право выбирать школьникам самим, что они хотят изучать: химию, физику, математику или физкультуру. Понятно, что мало кто выбирал химию с физикой, а потом оказалось, что и научить этому в вузе уже невозможно. Не говорю уже о том, что вузы все эти 20 лет выпускали специалистов наобум, совершенно не понимая, кого и в каком количестве нужно обучать для нужд экономики. В итоге госвузы исходили из достигнутого: в этом году мне давали 10 миллионов, значит задача — получить 11 миллионов, и ни в коем случае не 9 миллионов. По этой же причине мы учим ненужных никому педагогов, развиваем региональные вузы и делаем массу других глупых вещей. Теперь хочется понять, кто во всем этом виноват.
– И кто же?
– Если мы заглянем в закон «О высших учебных заведениях», то становится понятно, кто допустил это бесконтрольное размножение вузов. Этим должен был заниматься Совет по высшему образованию, который должен был разрабатывать концепцию развития высшего образования, структуру вузов вне зависимости от формы собственности и пр. Ведь при желании можно было консолидировать вузы в любой момент. В частных вузах, кстати, это так и происходило, потому что они работали в условиях конкурентной среды. А госвузы за редким исключением жили в условиях той самой вседозволенности, когда деньги шли и ни о чем другом особо не надо было думать. При этом в Эстонии реформа высшего образования началась три года назад, в Литве тоже решили пересмотреть систему, сделав так называемую «корзину студента», которую выпускник может нести в любой вуз — частный или государственный. И это приводит к конкуренции. А в Латвии взяли другой курс: быстро бежать, но не всегда в правильном направлении, в отличие от медленно движущихся эстонцев.
– Но идея Килиса тоже вроде бы заключается в том, чтобы деньги следовали за студентом, а не наоборот?
– Ну а что, до Килиса никто не знал о том, что в Латвии есть хорошо работающая система кредитования студентов? Сейчас же Килис хочет распространить эту систему на всех студентов. Так это давно надо было сделать! Если же говорить о качестве образования, то хочется уточнить — о каком качестве идет речь? Ведь, по сути, мы выпускаем «продукт», который покупают рынки труда других стран. И логика той советской системы, обязывающей выпускника вуза отработать на предприятии 3 года, вообще-то есть. Ведь мы как налогоплательщики тратим деньги на подготовку специалиста, и в той же Великобритании тратят на подготовку одного специалиста в 10 раз больше.
– Насколько вам кажется реальной цель министра добиться того, чтобы хотя бы один латвийский вуз вошел в мировой рейтинг вузов?
– Это желание скорей связано с амбициями, а не с реальной жизнью: хотим свою «Нокиа», хотим свой «Гарвард». Смотрите, бюджет системы образования составляет 215 млн. латов, из которых треть — это частная плата за обучение. При этом по расходам на науку Латвия занимает последнее место в Европе. И на фоне этих цифр мечты министра о том, чтобы латвийский вуз вошел в мировой рейтинг вузов — это еще одна иллюзия. Этого не будет. Объясню почему. Большинство наших вузов являются предпринимательскими вузами, то есть они обучают по программам предпринимательской деятельности и не ведут научных исследований. Для них, по сути, должны быть свои рейтинги. А в той сотне лучших вузов мира нет ни одного учреждения из тех стран, которые имеют такие показатели по науке, которые имеем мы. Где мы и где Гарвард с бюджетом 5-6 миллиардов долларов?
– Хорошо, а войти в ТОП-500 европейских вузов, это реально?
– То же самое — нереально. В любых рейтингах вузов примерно 70% показателей связано с наукой. Даже Московский университет или Санкт-Петербургский университет, которые являются очень хорошими вузами, не могут в этом плане тягаться с западными вузами, которые тратят огромные деньги на науку. Нам нужно соревноваться не с Гарвардом или Кембриджем, а с вузами стран Балтии, где примерно одинаковые условия.
– Что касается качества программ, правильно ли менять систему оценки качества?
– Для частных вузов аккредитация всегда была очень жесткая, и самое главное — с участием представителей конкурирующих с нами государственных вузов. Поэтому я всегда считал, что оценивать наши программы должны эксперты из других стран. Они более объективы, и они не думают о том, как бы нас угробить.
– Значит, все же нужна отдельная независимая комиссия по оценке качества программ вузов?
– У нас есть уже Центр оценки качества высшего образования, который был учрежден в свое время как независимая от министерства организация, но, конечно же, так не было на самом деле. В совет вошли несколько государственных и один частный вуз. Нам в свое время отказали в нашем желании войти в совет. Этот Центр декларировал себя бесприбыльной организацией, однако на самом деле доходы у него были неплохие. Например, для нас аккредитация каждой программы, а у нас их около 30, обходилась в сумму от 6 до 10 тысяч евро. Учитывая, что обновлять аккредитацию программ нужно раз в 2 года или в 6 лет, мы потратили на это около 300 тыс. латов. То есть дело не в том, что нужно сейчас рушить старое и создавать что-то новое. Нужно взять старое, исправить все те ошибки, которые были, и сделать оценку программ максимально объективной. Хотите пригласить для оценки качества вузов международных экспертов? Пожалуйста! Я лично не против, если оценивать мой вуз не будут мои же конкуренты. Сейчас же ситуация такова: чтобы взять высоту в 1,40 метров, нам надо прыгнуть на 1,45 метров, а тому же Латвийскому университету достаточно взять высоту в 1,35 метров.
– Почему все же Совет ректоров так против этой реформы? Речь о больших деньгах?
– Вспомните с чего началась вообще реформа Килиса. Он сказал: в Латвии много вузов, их надо объединить. Чуть позже в одном интервью он сказал: «Я не смог это сделать!». Все просто: он столкнулся с лобби государственных вузов, и ему пришлось признать, что он проиграл. Потом он объявил, что реформа далее пойдет через регулирование количества программ в вузах. Но я авторитетно заявляю: ничего не зависит от количества программ. В Тартуском университете их 200, а в Латвийском университете — 125. При этом в рейтинге вузов Тартуский университет на 1000 мест опережает Латвийский университет, хотя программ в первом больше. В английских университетах, которые лидируют во всех рейтингах вузов, многие сотни программ!
Поэтому мое мнение — количество программ вообще неважно. Просто если цель министра — снизить число программ, то автоматом всплывет проблема региональных вузов. Если деньги пойдут за студентом, то региональные вузы просто умрут. Выживет Латвийский университет, «Страдыня», РТУ, четверка частных вузов, а региональные и мелкие частные вузы начнут умирать. Это понимают все, поэтому противостояние вузовской элиты такое огромное.
– Сколько вузов для Латвии было бы оптимальным?
– Не более 6-7 государственных. Латвийский Университет с присоединенными к нему несколькими госвузами, Рижский технический, Страдыня, Сельскохозяйственная академия и Даугавпилский университет. Все остальное — под большим вопросом. У нас есть 3 вуза культуры, но кто мешает сделать 1 хороший университет культуры? Останутся несколько частных вузов, скорей всего большая пятерка: Балтийская международная академия, «Туриба», TSI, RSEEBA. Они обладают хорошей материальной базой, имеют хорошие программы, поэтому им нечего бояться в плане студентов и аккредитации программ. Хотя все мы работаем в ситуации шагреневой кожи — если брать во внимание те перспективы, которые нас ожидают в течение 10 ближайших лет. Идет борьба за каждого студента, и никто из нас не имеет права снижать планку качества.
– Как вам кажется, удастся ли министру сломать то противостояние вузовской элиты, о которой вы говорили?
– Что-то определенно ему удастся изменить. Важно, что министра поддерживает общественное мнение и президент. Против Совет ректоров и Совет по высшему образованию, который хочет по-прежнему управлять потоком денег, идущих в сферу высшего образования. Хотя по закону это не их функция. Мне нравится Килис за то, что у него есть общая концепция. За то, что у него есть смелость бороться с этой системой.
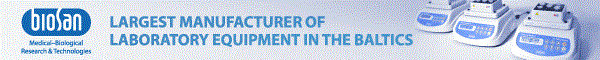
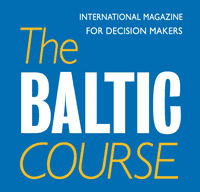
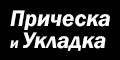
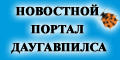




 «Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!



