Аналитика, Балтия – СНГ, Латвия, Образование и наука, Прямая речь
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 31.07.2025, 09:19
Отображение России и русских в школьных учебниках истории и литературе на латышском языке
 версия для печати
версия для печати |
|---|
После образования независимой Латвийской Республики история как предмет стала важнейшим инструментом в руках правящей элиты для формирования у населения нового исторического сознания. При этом определяющую роль в формировании позиции правящей элиты по вопросам истории играла радикальная часть западной латышской эмиграции, значительная часть представителей или потомков которой в 1930-е годы являлась опорой этнократического режима К.Ульманиса, а в годы Второй Мировой войны прислуживала гитлеровцам. Взгляды радикальной части западной латышской эмиграции на историю включали в себя следующие основные положения:
а) латыши как нация и Латвия как государство существовали всегда;
б) на протяжении многих веков существовали различные политические силы, которые препятствовали, тормозили историческое развитие латышского народа и Латвийского государства. Но особо негативную роль всегда играла Россия;
в) что касается присутствия на территории Латвии нелатышского населения, в первую очередь, русского, то это население сформировалось на территории страны главным образом после 1945 года, и его роль в истории страны была, как правило, отрицательной, поскольку Россия всегда преследовала цель колонизировать Латвию;
г) с временем правления Карлиса Ульманиса в 1930-е годы связан не только экономический расцвет Латвии, но и подъем в развитии национальных меньшинств;
д) главной причиной событий 1940 года, когда Латвия присоединилась к Советскому Союзу и утратила свою независимость, является пакт Молотова-Рибентропа от 23 августа 1939 года;
е) «Страшный год» в истории Латвии (т.е. период Советской власти с 5 августа 1940 года по 22 июня 1941 года) был намного более тяжелым и кровавым, нежели период немецко-фашистской оккупации с 1941 по 1945 год;
ж) в годы Второй Мировой войны страну, следуя один за другим, оккупировали два противоборствующих тоталитарных режима. Латвийское государство и его жители стали жертвами нацистского и коммунистического режимов;
з) при нацистах латышам жилось лучше, чем при коммунистах;
и) освобождение территории Латвии от нацистской оккупации — это начало второй, советской, оккупации, которая длилась с 1945 года по 1991 год. Во время повторной советской оккупации латвийскому народу и латвийскому государству был нанесен огромный, непоправимый ущерб, в результате чего страна по уровню развития катастрофически отстала от стран Запада.
Таковы принятые на Западе в среде радикальной части латышской эмиграции взгляды на историю Латвии в ХХ веке, которые стали активно пропагандироваться в латвийском государстве, вновь образованном после 1991 года. При этом табу было наложено на такие темы, как просоветские настроения народа Латвии в 1918-м — первой половине 1919 года, антисемитизм в Первой Латвийской Республике и подавление прав национальных меньшинств в период существования авторитарного и этнократического режима К.Ульманиса, причины антиульманисовского и просоветского движения летом 1940 года, тема коллаборационизма в период нацистской оккупации и др. Одновременно уменьшались потери населения и принижалось значение коммунистического подполья и партизанского движения в годы нацистской оккупации, а вклад СССР в развитие Латвии после 1945 года или замалчивался, или оценивался преимущественно с отрицательной точки зрения.
В конце 1980-х — начале 1990 годов широкое хождение в Латвии получили работы таких авторов западной латышской эмиграции, как Адолф Шилде, который, как уже отмечалось, в годы немецко-фашистской оккупации активно служил нацистскому режиму, Адолф Билманис, Лаймонис Стрейпс, Агнис Балодис.
Во второй половине 1990-х годов представленная в этих работах идеология перекочевывает в книги по истории Латвии и школьные учебники истории, авторами которых являются местные латышские авторы, среди них: Одиссей Костанда (латышскоязычный грек, руководитель латышского авторского коллектива), Гунар Курлович и Андрис Томашунс и др. Рекомендованных Министерством образования и науки (МОН) учебников истории Латвии, авторами которых являются латвийские русские историки, после 1991 года издано не было. Единственное исключение — учебное пособие для общеобразовательной школы «Русские в Латвии со средневековья до конца ХIХ века», авторами которого являются Олег Пухляк и Дмитрий Борисов. Но это пособие не имело грифа «Рекомендовано МОН ЛР».
Работа по пропаганде принятой в среде западной латышской эмиграции концепции истории Латвии в 20 веке, включая историю русской общины и оценки ее вклада в развитие страны, резко активизируется после создания 13 ноября 1998 года по решению первого президента Латвийской Республики Гунтиса Ульманиса Комиссии историков при президенте Латвии. Главной целью работы этой Комиссии была объявлена задача проведения соответствующих исторических исследований и написание на основе этих исследований школьных учебников истории.
Квинтэссенцией основных выводов работы Комиссии историков стала откровенно русофобская книга «История Латвии. ХХ век», где все выводы историков радикальной части западной латышской эмиграции были сформулированы в еще более ясной и в еще более резкой форме.
Так, национальная политика Латвийского государства, хотя и подвергается в книге критике, все же рассматривается только и исключительно с позиций оправдания строительства «Латышской Латвии», т.е. с позиций оправдания этнократического политического режима, существовавшего в Латвии с 1934-го по 1940-й год и вновь воссозданного после 15 октября 1991 года. Например, тот факт, что уже в июне 1921 года правительство З.А.Мейеровица провозгласило лозунг «Латвия — для латышей!», не рассматривается как что-то шовинистическое или расистское (стр. 146). А то, что в период парламентской демократии (т.е. до 1934 года) на заседаниях Сейма можно было выступать, кроме латышского, также и на русском и немецком языках, авторы книги, в свою очередь, оценивают как нонсенс, как «европейское политическое чудо» (стр. 148). Поэтому, когда после 15 мая 1934 года такая практика была ликвидирована, это было «очень ценно», а закон о государственном языке от 5 января 1935 года, провозгласивший более строгую языковую политику, «не содержал ни одной несправедливой нормы». (стр. 204)
Авторы книги сожалеют о том, что при принятии Сатверсме не была принята статья 116, которая предполагала принятие закона, определявшего, какие национальности в Латвии относятся к национальным меньшинствам и могут претендовать на культурно-национальную автономию. Принятие этого закона, подчеркивают авторы, «позволило бы не смешивать каждую этническую группу с национальным меньшинством»! (стр. 148) То есть это как раз то, чего добиваются нынешние национал-радикалы, озабоченные необходимостью выполнять требования Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.
Несмотря на то, что Карлис Ульманис с его «непомерной жаждой власти» в 1934 году уничтожил демократию, он, по мнению авторов книги, — «выдающийся латышский политик» (стр. 152), «серьезная личность» (стр. 155). Баллотируясь в 1925 году на должность президента под лозунгом «Латвия — для латышей», он, оказывается, выступал не с расистских позиций Латышского Национального клуба, а всего лишь с позиций оказания латышам экономической, социальной и политической поддержки (стр. 155), хотя чуть дальше, на стр. 156, эта позиция и оценивается как шовинистическая. А вот диктатура «15 мая», установленная К.Ульманисом в результате государственного переворота, хотя и характеризовалась ярко выраженным антидемократическим характером управления страной, тем не менее вовсе не была плохой, поскольку была «щадящей» и не была «антигуманной». (стр. 168) Такую оценку диктатуры, без сомнения, следует признать еще одним новым словом в исторической науке, поскольку до этого всегда считалось, что диктатура может быть только преступной.
Раз диктатура К.Ульманиса была «гуманной», то понятно, что в книге ничего не сказано о Калнциемской каторге и концлагере под Лиепаей, куда направляли противников политического режима. Само собой, в книге ни слова не говорится о том, что партии Крестьянский союз, главой которой был К.Ульманис, советские структуры, как свидетельствуют архивные данные, оказывали финансовую поддержку через некую фирму в Риге. Зато говорится, что к выдающимся достижениям К.Ульманиса следует отнести рост национального самосознания латышского народа. «15 мая 1934 года латыши впервые почувствовали себя настоящими хозяевами страны» (стр. 169), — подчеркивается в книге. Как после такого вывода читатель должен оценивать совершенный К.Ульманисом 15 мая 1934 года государственный переворот? Естественно, что латышский читатель будет его оправдывать. Тем более, что в книге ничего не говорится о том, что в основе этого национального самосознания лежала тоталитарная идеология, обрекшая весь народ Латвии, а не только латышей, на огромные человеческие жертвы, а Латвийское государство — на гибель.
Крайне необъективно в книге преподносится история Великой Отечественной войны на территории Латвии. Вспомним хотя бы скандал с оценкой Саласпилсского лагеря смерти как лагеря, где заключенных всего лишь «перевоспитывали трудом». Кроме того, в этой книге также утверждается, что основные потери Латвия понесла в период «Страшного года» и в период повторной советской оккупации. Немецкая оккупация, напротив, была мягкой и более дружественной по отношению в латышскому народу. При этом реальные цифры потерь, которые понесло население страны, замалчиваются.
В качестве примера, прямо указывающего на необъективный характер вывода о том, что нацистская оккупация была более «дружественной» к латышам, нежели «оккупация» советская, упомянем о потерях населения Елгавы в период с 1941 по 1944 год. На 1 января 1940 года население Елгавы составляло 34 тыс. 100 человек, 27 тыс. из которых были латыши. Летом 1940 года население Елгавы поддержало установление советской власти в Латвии. После 5 августа 1940 года настроения жителей начинают меняться, потому что начинаются национализация и репрессии. В период с 5 августа 1940 года по 22 июня 1941 года из Елгавы было депортировано 444 человека, а за первую неделю войны, т.е. с 22 по 29 июня, когда в город вступили немецкие войска, было расстреляно 5 человек. В то же время потери населения города в период немецкой оккупации (безвозвратные и возвратные), по разным оценкам, составили от 18 тыс. до 25 тыс. человек. Отмечая, что каждая человеческая жизнь бесценна, нужно все же признать, что потери среди мирных жителей города в период т.н. «Страшного года» и в период немецко-фашистской оккупации абсолютно несопоставимы.
Отдельная тема — Латышский добровольческий легион СС. Комиссия историков при президенте Латвии активно отстаивает ту точку зрения, что Латышский добровольческий легион участвовал только в боевых действий и никак не был связан с карательными акциями против мирного населения. Более того, вопреки историческим фактам, утверждается, что вступление латышей в Легион — это была, якобы, единственная возможность бороться за будущую независимую Латвию. Опять же вопреки историческим фактам утверждается, что легионеры воевали только против большевистской России, но не против Англии, Франции и США. Наконец, делается вывод, что Латышский добровольческий легион СС никоим образом не может быть отнесен к общим СС фашистской Германии и потому не может, согласно решению Нюрнбергского трибунала, рассматриваться как преступное воинское соединение.
Выводы Комиссии историков — это фактически позиция государства, которая создает благодатную почву для реабилитации и пропаганды в стране идеологии нацизма и фашизма.
Что же касается пропаганды антисемитизма и русофобии, а также попыток обеления фашизма, то в качестве самого последнего, свежего примера следует сказать о книге «Эшафот» видного латышского адвоката Андриса Грутупса. Русская и еврейская общины Латвии оценили эту книгу как откровенно антисемитскую и русофобскую. Более того, в случае с этой книгой, — отмечает доктор истории Григорий Смирин, — «мы имеем дело не просто с иной концепцией изложения исторических событий, как может показаться на первый взгляд, а с конъюнктурным пересмотром итогов Второй мировой войны с точки зрения проигравшей стороны, т.е. нацистов и и их местных пособников». Однако латышское общество не только не подвергло ее критике, но, наоборот, оценило очень позитивно. С положительными рецензиями выступили член Комиссии историков при Президенте Латвии, заведующий кафедрой истории Западной Европы и США в новое и новейшее время историко-философского факультета Латвийского университета профессор Инесис Фелдманис, экс-президент Академии наук Латвии академик Янис Страдынь, П.Банковскис и др. Книга «Эшафот» была подарена автором всем латышским школам. Более того, было объявлено о подготовке русского издания книги, а затем русский перевод был выпущен в свет.
Следует признать, что в Латвии, впрочем как и в Литве и Эстонии, а также во многих странах СНГ и Восточной Европы (исключение составляют, пожалуй, лишь Армения и Белоруссия), идет самая настоящая война за историю, которая сегодня имеет ярко выраженную антироссийскую и антирусскую направленность. С 1998-го и до 2007 года Комиссия историков при президенте Латвийской Республики издала более 20 книг, направленных на формирование новой концепции истории Латвии в ХХ веке. 26 апреля 2007 года в Латвийском университете в рамках организованного Комиссией историков форума для учителей латвийских школ «История и время» полный комплект книг в подарок получили все средние общеобразовательные школы, гимназии, вечерние (сменные) школы и специальные образовательные заведения с курсом средней школы, а также профессионально-образовательные школы, частные средние школы и гимназии, музыкальные и художественные школы, находящиеся в ведении министерств культуры и внутренних дел, Государственный полицейский колледж и заведения профессионального образования самоуправлений — всего 518 школьных библиотек.
Одним из результатов этой войны за историю стала раздвоенность исторического сознания у жителей страны. Молодое поколение латышей, а также часть старшего поколения воспринимают сегодня историю Латвии с точки зрения радикальной части западной латышской эмиграции, а нелатышское население (значительная часть как молодежи, так и среднего и старшего поколения) — с позиций существовавшей в годы Латвийской ССР концепции истории Латвии.
Это положение нашло подтверждение в ходе проведенного в 2008 году по заказу Фонда Сороса в Латвии опроса 400 двенадцатиклассников латышских и русских школ города Риги. На вопрос, как оценивать события 1940 года в Латвии, 54% латышских школьников сказали, что это была оккупация. В свою очередь, из русских школьников аналогичный ответ дали лишь 29% опрошенных. На вопрос, как оценивать вступление немецких войск на территорию Латвии в июне 1941 года, школьники латышских школ дали следующие ответы: немцы освободили Латвию — 8%, немцы оккупировали Латвию — 45%, немцы и оккупировали и освободили Латвию — 42%. Иначе ответило на этот вопрос большинство русских школьников: немцы освободили Латвию — 3%, немцы оккупировали Латвию — 81%, немцы и оккупировали и освободили Латвию — 15%. Столь же значимое разночтение наблюдается и в ответах на вопрос, как оценивать вступление на территорию Латвии войск Красной Армии в 1944-1945 гг. Латышские школьники ответили так: войска Красной Армии освободили Латвию — 12%, оккупировали Латвию — 62%, одновременно и освободили и оккупировали — 20%. В свою очередь, русские школьники дали следующие ответы: войска Красной Армии освободили Латвию — 65%, оккупировали Латвию — 5%, и освободили и оккупировали — 25%.
В чем причина такого положения?
Во-первых, нужно говорить об активной позиции русских СМИ, смело отстаивающих историческую правду. По подсчетам профессора Лео Дрибина, ежегодно в русских СМИ публикуется до 350 статей на исторические темы. В том числе и с критикой пропагандируемой государством новой концепции истории Латвии в ХХ веке.
Во-вторых, нужно говорить об активной позиции русскоязычного научного и писательского сообщества, благодаря усилиям которого после 1991 года свет увидели десятки книг и сотни статей по истории Латвии, а также по истории и культуре русской и еврейской общин страны. Среди этих ученых, писателей и краеведов: писатели Юрий Абызов и Леонид Коваль, профессора Борис Инфантьев, Иосиф Штейман, Борис Волкович, Эдуард Мекш, Лев Сидяков, Юрий Сидяков, Павел Тюрин, Владислав Волков, Людмила Спроге, Александр Гаврилин, доктора истории Татьяна Фейгмане и Григорий Смирин, доктор философии Светлана Ковальчук, кандидаты исторических наук Александр Гурин и Виктор Гущин, историки и краеведы Борис Равдин, Иосиф Рочко, Мейер Меллер, Татьяна Алексеева, Владимир Никонов, Светлана Видякина, Феликс Талберг, Анатолий Ракитянский, Илья Дименштейн, Нинель Подгорная, Юрий Мелконов, Олег Пухляк, Игорь Гусев, Сергей Журавлев и др.
В-третьих, нужно говорить об активной издательской деятельности политических партий, представляющих интересы русской общины (ЗаПЧЕЛ и «Центр согласия»), а также русских общественных и научно-исследовательских организаций, которые по вопросам истории Латвии, в т.ч. по вопросам истории русской общины, истории страны в годы Великой Отечественной войны и после 1991 года тоже издали десятки книг и брошюр. Отметим здесь книги Бориса Цилевича, Олега Щипцова, Альфреда Рубикса, Владимира Бузаева, Николая Кабанова, Якова Плинера и Валерия Бухвалова, Владимира Соколова и др., а также издания Балтийского форума, Латвийского общества русской культуры, Пушкинского общества, Центра гуманитарных исследований и просвещения «Веди», Старообрядческого общества им. Заволоко, Русской общины Латвии, Русского общества в Латвии, Лиепайской русской общины, Гуманитарного семинара Seminarium Hortus Humanitatis и др.
В четвертых, нужно говорить о позиции родителей, которые передают детям свой исторический опыт, отличающийся от того, который пропагандирует государство.
В-пятых, нужно говорить об активной позиции отдельных представителей русского бизнеса Латвии, которые на свои деньги восстанавливают некогда утраченные памятники русской истории Латвии. В первую очередь, здесь следует отметить беспримерно активную деятельность предпринимателя Евгения Гомберга, восстановившего на свои средства памятники российскому императору Петру Первому, герою Отечественной войны 1812 года фельдмаршалу Барклаю де Толли и др. Необходимо также отметить предпринимателей, которые объединились в Рижском бизнес-клубе (Владимира Соломатина, Ивана Тыщенко, Евгения Волошина, Александра Оськина и др.) и на свои средства восстановили и продолжают ухаживать за памятником солдатам армии Петра Первого, погибшим в бою со шведами на острове Луцавсала (сегодня это территория Риги — В.Г.) 9 июля 1701 года. Здесь же стоит упомянуть и о том, что многие туристические фирмы предлагают для учеников русских школ специальные маршруты, связанные с русской историей Латвии.
В целом вся эта подвижническая деятельность русского бизнеса Латвии по сохранению русской истории и русской культуры в Латвии оказывает серьезное влияние на формирование исторического сознания русской общины страны.
В-шестых, нужно говорить о позиции учителей истории, которые или смягчают (на свой страх и риск!) предлагаемые в школьных учебниках необъективные исторические трактовки, или предлагают школьникам альтернативное видение истории.
В-седьмых, нужно говорить о значительной активизации после 2000 года историков России, опубликовавших целый ряд монографий и сборников документов по истории стран Балтии в ХХ веке. Эти книги, которые можно свободно купить в книжных магазинах Латвии или же познакомиться с ними на интернет-сайтах, тоже оказывают серьезное воздействие на формирование исторического мировоззрения русской общины Латвии.
Наконец, важную роль играет и повсеместно доступное в Латвии телевидение России (каналы ОРТ, РТР, ТВ-Центр, НТВ и др.), которое достаточно часто обращается к вопросам истории Латвии в ХХ веке.
Совокупность всех этих факторов и определяет то обстоятельство, что ученики русской школы воспринимают историю Латвии сегодня иначе, нежели ученики школ с латышским языком обучения.
Если оценивать ситуацию по итогам централизованных экзаменов по истории в средней школе, то в русской школе ученики в своих ответах идеализируют СССР, а сегодняшняя Латвия рассматривается ими как государство, где царит апартеид и героизируются бывшие эсэсовцы. В работах латышских школьников, наоборот, отмечается существование вечной Латвии, которую постоянно захватывают, пытаясь уничтожить латышский народ, понимаемый как монолит, а латыши при этом всегда были, есть и будут жертвами истории.
Объясняя причины идеализации русскими школьниками СССР, учитель истории одной из школ Даугавпилса Галина Петрова на упомянутой выше международной конференции по вопросам школьных учебников истории отмечала, что это результат не только влияния родителей или позиции учителей истории, но и защитная реакция самих детей из нелатышских семей от того комплекса вины и безнравственного поведения, которые в школьных учебниках, зачетных работах и централизованных экзаменах навязывает им Латвийское государство.
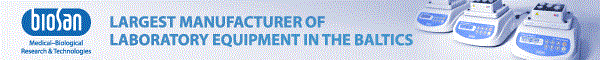
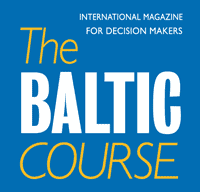


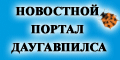



 «Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!



