Аналитика, ЕС – Балтия, Право
Балтийский курс. Новости и аналитика
Суббота, 02.08.2025, 11:18
Лиссабонский договор EC 2007: экономика и политика
 версия для печати
версия для печатиИнтеграция или федерация
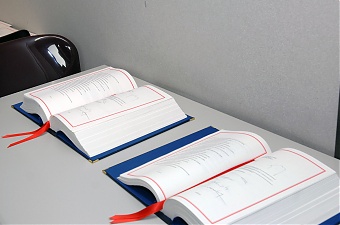 |
|---|
В историческом развитии Евросоюза два фундаментальных договора сыграли решающую роль в процессах европейской интеграции. Один — это Римский договор о Европейском Экономическом Сообществе 1957 года, который заложил основы «общего рынка»; другой — Маастрихтский договор 1992 года, который, собственно, и учредил Евросоюз, добавив к общему рынку новые аспекты интеграции, включая оборонную политику, вопросы безопасности, правового государства и др. Эти договоры в основном и определили специфику Европейской интеграции, создав уникальный продукт «гибрид-Евросоз», который, с одной стороны гораздо больше, чем просто межгосударственное объединение, но с другой — значительно меньше, чем какое-либо федеральное «супер-государство». Не простой оказалась и формальная база нового этапа интеграции: поэтому новый Лиссабонский договор (ЛД) 2007 года в модернизированном виде как бы объединяет эти два базовых для Европы договорных документа в одном.
После Маастрихта было предпринято немало усилий по активизации действий ЕС в направлении повышения экономической эффективности или демократии, правда, эти усилия затрагивали лишь, так сказать, косвенно сами основы Евросоюза и суверенных прав стран-членов.
Но вот наступил период, когда число членов ЕС перевалило за два десятка и стали очевидны ущербы предшествующих правил и договоренностей. Проект Конституции для Европы, предложенный для ратификации в конце 2004 года, имел одну главную задачу -ускорить интеграционные процессы. Задача более чем похвальная. Однако момент для такого «ускорения» был выбран не совсем удачною Большинство стран в 2004-2005годов еще «переваривали» новое расширение ЕС и новые факторы развития общего рынка, не говоря уже о комплексных последствиях в Европе объединения Германии и развала Советского Союза. Если бы не все эти обстоятельства, то видимо проект Конституции мог бы быть и утвержден. Дело, в конце концов, не столько в тексте договора, сколько в «его духе» и действенном стремлении государств и дальше идти по пути интеграции, процесса насчитывающего уже более полстолетия.
Правовая основа экономики ЕС
Надо сказать, что Лиссабонского договора в его нынешнем виде никогда бы не появилось, если бы не было работы «конституционного конвента» в 2001-2002 годах и двух редакций Конституции для Европы, подготовленных почти двумястами представителей ЕС-15. В работе Конвента участвовали и представители всех «новых стран» ЕС, правда, с совещательным голосом.
Несмотря ни значительные разногласия на уровне подготовки документа, проект Конституции был ратифицирован 18 странами ЕС, то есть гораздо больше половины, что говорит об определенной притягательности «федеративного» подхода к европейской интеграции, изложенного в проекте. Многие положения этого подхода, если не сказать их подавляющее большинство, были «переведены» в новый текст ЛД. Во всяком случае, все то новое, что конституционный проект внес в экономическую политику ЕС, практически сохранилось в новом тексте ЛД.
Обычно договоренности политиков Евросоюза не расходились с общественным мнением, и договоры быстро приобретали форму законов. В договорной истории ЕС обычно проходило год-два с момента подписания новых договоров до их вступления в силу (таких фундаментальных в истории ЕС было около десятка). И вот впервые новый договор «завис» более чем на семь лет и еще нет полной уверенности в окончательном исходе. Тут есть о чем задуматься!
Разные подходы
Надо заметить, что ЛД в его нынешнем варианте примирил три основных направления в переходе от проекта конституции к новому «реформистскому» договору. Это были минималисты (выступавшие за небольшой текст, с которым было бы легко работать), максималисты (чем подробнее текст, тем лучше) и прагматисты (которые считали, что любой текст хорош, лишь бы он показывал перспективы интеграции). Для того чтобы учесть интересы отдельных стран, в ЛД включено огромное количество протоколов и деклараций. Это, конечно, не упрощает новый договор, но очевидно делает его значительно легче предшествующего варианта Конституции. Как ни странно, но видимо именно Франция добилось желаемого: из окончательного текста раздела ЛД о «целях Евросоюза» было исключено положение о ничем не ограниченной конкуренции (undistorted competition) и в дальнейшем Франция может всячески поддерживать «национальных чемпионов» в экономике. Здесь политическая власть явно взяла верх над интересами свободной рыночной экономики; сигнал довольно тревожный.
И если по форме — изменения в ЛД очевидны, то по существу — они идентичны тем, что были в конституционном проекте. Так, вместо поста «министра иностранных дел ЕС», столь негативного для антифедералистов, будет пост «полномочного представителя (high representative) по внешней и оборонной политике», хотя по компетенции эти два «поста» фактически аналогичны. Вместо указания на верховенство права ЕС над национальным, введено указание на «повышение роли и значения» решений, принимаемых Судом ЕС.
Правда, не всем удавалось «протащить» в новый ЛД свои пожелания. Так, попытки некоторых лидеров (например, британского премьера) свести на нет значение Хартии об основных свободах оказались безуспешными. Тем не менее британскому лидеру удалось внести в приложении к ЛД длинный протокол, который предусматривает, что положения Хартии не должны противоречить британским законам (из-за опасения, что это может расстроить трудовые отношения в стране). Все это не может не напоминать уже известные ранее идеи о «Европе многих скоростей»: когда некоторые страны выбирают для себя наиболее приемлемые темпы интеграции или оговаривают для себя какие-то исключения из договорной практики.
Каждому — свое
Многие задаются вопросом: вообще-то говоря, нужен ли был новый договор? Скорее всего, ответ будет положительным. Расширенное до ЕС-27 объединение становится неповоротливым и медленным; частые нападки на низкую эффективность работы институтов ЕС есть результат закрытости в их работе. Многие актуальные проблемы годами ждут своего решения, а многие законы по завершению строительства общего рынка завязли в согласованиях. Бывшие страны социалистического лагеря, которые теперь составляют треть общего членства в ЕС, часто замечают, что вступали туда не для того, чтобы оказаться теперь в тисках уже другого «союза».
Вместе с тем новая геополитическая ситуация и проблемы глобализации заставляют искать новые интеграционные принципы и критерии. Поэтому согласование национальных и наднациональных интересов при разработке этих критериев служит лишь косвенным отражением актуальных проблем глобализации. Можно сказать, что необходимость сокращения дистанции между странами в этом согласовании уже ни у кого не вызывает сомнений. Причем самое прямое следствие этих процессов — это эрозия власти государственной; государство постоянно «теряет» свои, с таким трудом завоеванные, суверенные полномочия. Свободная торговля, многонациональные корпорации и открытые финансовые рынки — это и многое другое серьезно ограничивает возможности стран «защитить» свои отрасли хозяйства и трудовые ресурсы. Эрозия власти ощущается и в таких, казалось бы, далеких от экономики сферах, как изменения климата, энергетика, международная преступность и терроризм. Все это говорит в пользу более актуальной взаимозависимости государств, особенно в таком регионе, как Европа.
Но тут есть и обратная сторона: при неожиданных витках глобализации население требует от правительств большей защищенности и сохранности своей идентичности. В какой-то мере интеграция как «единство суверенитетов» может служить своеобразной защитой своих собственных суверенных прерогатив. Правда, проблема всегда остается: как совместить прагматические и сиюминутные вопросы экономической интеграции с популистскими и эмоциональными устремлениями политиков.
Новый ЛД пытается соединить обе тенденции: поэтому-то он и поставил в свою основу два договора — Маастрихстский (как договор общеполитический) и Римский (как договор о практическом функционировании ЕС). Так что в ЛД оба договора естественно дополняют друг друга на новом витке европейской интеграции.
Координация экономики
Ни в одном из договоров ЕС вопросы развития экономики (собственно экономической интеграции) никогда отдельно не фигурировали. Поэтому экономическая политика «предлагалась и реализовывалась», так сказать, совместными усилиями — на национальном и на европейском уровне. В этом плане экономика ЕС есть, в каком-то смысле, сумма экономик стран-членов, так как экономика реализуется практически на уровне государства, даже несмотря на то что в договорах она часто называется «общей проблемой» (a matter of common concern). Но ЕС идет дальше и предлагает механизм координации, осуществляемый Советом Министров ЕС. Для стран еврозоны (их теперь 15) есть механизмы монетарного союза, для остальных имеется два главных механизма: мониторинг экономического развития каждой страны и всего ЕС, и многостороннее наблюдение и надзор за тем, чтобы экономические политики стран ЕС соответствовали «дорожной карте» ЕС по экономическому развитию региона и занятости. Такое «наблюдение» осуществляется по интегральным параметрам (Integrated Guidelines Package) дважды в год (май и сентябрь): ec.europa.eu/economy_finance/eu_economic_situation/
В аппарате Еврокомиссии есть Директорат по экономическим и финансовым вопросам, в составе примерно 450 человек, который и руководит такой координацией: ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
ЛД предлагает кардинальный ход — зафиксировать три основные сферы деления социально-экономической «компетенции» между ЕС и странами-членами. Было бы ошибочно считать, что развитие экономики региона совершается хаотично. В арсенале средств ЕС множество направлений координации: во-первых, это «общие политики» (их около 20), включая двойные (экономика и финансы, энергия и транспорт, предприятия и промышленность, рыболовство и мореплавание) и даже тройные (свобода, безопасность и право; занятость, социальная сфера и равные возможности, и др.). Во-вторых, это сфера внешних сношений (4 «политики») — торговля, гуманитарная и экономическая помощь, расширение ЕС. В-третьих, это, так называемые сервисные для всех стран политики (4): коммуникации, статистика, издательская служба и борьбы с мошенничеством (anti-fraud office). В новом ЛД эти почти три десятка существующих «политик» разделены по трем сферам компетенции: эксклюзивных полномочий ЕС (6), сферы совместных политик (13) и сферы координации и поддержки национальных политик (7). Как видно, совместные политики — гораздо предпочтительнее двух других.
Большие надежды
Очевидно одно, чем быстрее новый ЛД будет ратифицирован (это либо, и скорее всего, произойдет до лета 2009 года, либо нужен будет новый тайм-аут), тем быстрее аппарат ЕС выйдет из институционного застоя и займется решением актуальных экономических проблем региона, включая энергетическую безопасность, предотвращение изменения климата, поиски новых инновационных решений и развития современных технологий. Потенциал различных сфер экономического и социального развития ЕС далеко не исчерпан; скорее наоборот — став крупнейшим в мире «торговым блоком», ЕС может многое сделать для координации усилий стран-членов по повышению благосостояния граждан и улучшения их уровня жизни и дальнейшего процветания.
Вместо заключения
В новых странах ЕС бытует мнение, что Евросоюз воздействует на всю их экономическую жизнь. Это далеко не так; и об этом надо сказать прямо, так как политики часто прикрывают свое бездействие (или наоборот — чрезмерную активность) какими-то вымышленными «кознями» и действиями ЕС. На самом деле эти действия Евросоюза в экономической политике весьма ограничены (и по своей силе, и в секторах экономики).
И даже по отдельным направлениям, где наиболее вероятно это влияние (в основном через фонды ЕС и прилагаемые к ним требования), это совсем не значит, что национальная экономическая политика ограничивается регулами и директивами ЕС. Так что подменять национальную политику теми "сигналами", которые идут от ЕС просто не корректно. И часто вредно (конечно — для страны, а не для некоторых весьма ретивых политиков).
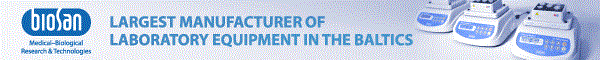
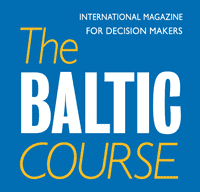



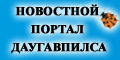


 «Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!



